Она родилась еще в дореволюционном Минске и видела последнего русского царя. Имела звание народной артистки Беларуси, но десятилетиями оставалась без ролей. Стала звездой — не только Беларуси, но и Советского Союза — в 76 лет и прожила 95. Ее имя на слуху, но биографию знают немногие. Сегодня, 13 мая, исполняется 120 лет со дня рождения великой актрисы, ставшей главной легендой беларусского театра и кино. Рассказываем о Стефании Станюте.
Царь, гимназия, дебют на сцене
Стефания родилась 13 мая (по старому стилю — 30 апреля) 1905 года в Минске в семье художника Михаила Станюты. Первое образование получила в местной церковно-приходской школе. «Нас, вучаніц, аднойчы прывялі на Саборную плошчу, паставілі на ўзвышэнні, дзе зараз сквер на плошчы Свабоды, — і я бачыла адтуль прыезд цара [Мікалая ІІ] ў дом губернатара», — рассказывала она своему сыну, ученому и прозаику Александру Станюте, автору книги «Стэфанія» (на нее мы будем ссылаться не раз).
В 1916 году 11-летнюю Стефанию приняли во второй класс Минской женской гимназии (ее здание на углу улиц Володарского и Городской Вал не сохранилось — там была автостоянка, а теперь строится многофункциональный комплекс). Семья снимала квартиру по соседству, в доме на современной Ленинградской улице. Девочка не выделялась среди одноклассниц успехами в учебе, лучше всего были отметки по закону Божьему, географии и рисованию, а хуже всего ей давались точные науки и языки: арифметика, русский и французский. По последнему у Стефании чаще всего стояла двойка, и именно уроки французского она пропускала чаще всего.

Возможно, это и повлияло на ее будущее. В июне 1918 года для перехода в 4-й класс гимназии Стефании нужно было сдать экзамен по французскому. Но тринадцатилетняя гимназистка его провалила. Ее манила сцена. К тому времени в Российской империи произошла революция, монархия пала. В атмосфере свободы в Минске стали появляться любительские театральные кружки — и именно театр занял мечты девочки.
Уже в следующем году Стефания — ей было 14 — впервые вышла в массовке на подмостки Первого товарищества беларусской драмы и комедии, где работала статисткой, хористкой и танцовщицей. Спектакли шли в бараке на Красной улице, в клубе на современной улице Кирова, в современном здании Купаловского и в Интимном театре на теперешней улице Мясникова.
«Час тады быў халодны і галодны. Але з якім захапленнем, каб вы ведалі, мы працавалі! Не было ні грыму, ні касцюму, ні дроў, каб выпаліць у печы, але быў энтузіязм і была маладосць», — вспоминала Станюта. — «Калі зімою выступалі ў Інтымным тэатры <…>, дык спярша клалі на сцэну толькі што злепленую снежку. Пачне раставаць — згаджаемся іграць. Калі не раставала — адмаўляліся. Маразы былі тады лютыя», — добавляла она.
Товарищество драмы и комедии возникло весной 1917-го по инициативе Игната Буйницкого, Флориана Ждановича и других отцов-основателей беларусского театра. Именно на его основе в 1920-м был образован 1-й Беларусский государственный театр (БДТ-1, теперь это Купаловский), куда и перешла Стефания. На его сцене она в 15 лет сыграла первую настоящую роль — Химки в спектакле «Ганка». «„Ну адну фразу ты хаця зможаш сказаць?“ — „Канешне!“ — адказала я. Трэба было выйсці на сцэну ў патрэбны момант і паведаміць: „Ганка ў студні ўтапілася“. Я выйшла і сказала: „Хімка ў студні ўтапілася“. Грымнуў рогат, я ў жаху зашылася некуды за кулісы», — вспоминала артистка.

Сказывалось и волнение от дебюта, и отсутствие профессионального образования — впрочем, его не было у подавляющего большинства тогдашних беларусских актеров. Но Стефании повезло: в 1921-м ее, шестнадцатилетнюю, вместе с другими молодыми беларусами отправили на учебу в Москву в новосозданную Беларусскую драматическую студию. Для них преподавали педагоги из знаменитого МХАТ, лучшего тогда театра России, они видели своими глазами режиссеров (от Станиславского и Немировича-Данченко до Мейерхольда), которые затем попадут во все театральные энциклопедии. «Што мы ведалі, што бачылі да Масквы? Даверлівыя, наіўныя. I, патрапіўшы туды, зразумела ж, напітваліся ўсім, як губкі», — рассказывала Стефания.
Из Коласовского театра в Купаловский
На базе выпускников московской студии в Витебске в 1926-м был создан Беларусский драматический театр-2 (теперь это Театр имени Якуба Коласа) — его актрисой и стала Станюта.
Период жизни в Москве и Витебске заложили основу ее мастерства, считал ее сын. «Пантомима, жест, карнавализация искусства — все было в радость, все новое! <…> Именно тогда она научилась быть на сцене смешной, экстравагантной, пластичной, эксцентричной», — рассказывал Александр.
Но вскоре время экспериментов в советской культуре закончилось — верх взяла идеология. «20-я — гэта было яшчэ такое спляценне і квітненне непадобнага, маладога па свайму духу, яскравага, што быць у гэтым знутры, дыхаць гэтым штодня, кожны вечар — азначала атрымаць зарад вялікай магутнасці на ўсё жыццё, увабраць у сябе атмасферу, што стымулюе ўсе твае здольнасці. <…>. А недзе ў трыццатых усё лепшае, непадобнае, <…>, сталі выполваць», — признавалась Стефания. Дошло до того, что товарищеские суды проходили в театре чаще, чем премьеры и собрания — да и на последних обязательно кого-то осуждали.

Коллектив единомышленников стал распадаться, и Стефания вернулась в Минск, в труппу родного БДТ-1, где и проработала всю оставшуюся жизнь. Репрессии 1930-х затронули и ее семью. Ее первого мужа, актера Василия Роговенко (правда, уже после развода) отправили на 13 лет в лагерь в Магадан за высказывания, которые посчитали антисоветскими.
Нападение немцев в 1941 году Белгостеатр встретил на гастролях в Одессе — там Станюта первое время была начальником группы самозащиты. А потом, после переезда труппы в эвакуацию в российский Томск, играла на сцене в тылу — и, по ее словам, спектакли всегда проходили при полных залах. Но это было не единственной ее работой — актриса также вела в госпитале театральный кружок для выздоравливающих бойцов. А однажды Стефании пришлось принимать роды зимой просто на улице. «Тую жанчыну муж не здолеў у бальніцу адвезці, не мог знайсці машыну, а мы ішлі познім вечарам са спектакля дадому, і ў нас знайшліся і марля, і нажніцы», — рассказывала она.
И это не все ее «приключения» военной поры. С питанием в тылу было сложно, еду приходилось буквально добывать, но Станюта умудрялась еще и помогать другим.
«Страшна падумаць, я ж была аднойчы нават паляўнічым сабакам, сапраўдным: кідалася ў туфлях, панчохах за падстрэленымі на паляванні качкамі: яны яшчэ трапечуцца, а я іх галовамі аб свой абцас. І гэта я, такая жаллівая, што ў дзяцінстве не магла есці зарэзаную мамай курыцу. Але, разумееш, тут было пачуццё: гэта мяса, ежа, а галоўнае — для адзінокай інтэлігентнай сям'ї, з якой я зблізілася і якая проста не здолее выжыць у тых умовах, калі ёй не дапамагаць. А яшчэ я была вавёркай: спрытна караскалася на вялікія кедры з доўгай палкаю, збівала шышкі з арэхамі», — рассказывала актриса.
Кстати, второй муж Стефании, кавалерийский офицер Александр Кручинский, остался с сыном в Минске. Он помогал партизанам, но после освобождения его, как находившегося под оккупацией, отправили в лагерь в Воркуту, где он и погиб.
В 1944-м Стефания вернулась в Минск. По дороге поезд, на котором ехали актеры, сошел с рельсов. Станюта чудом осталась жива: коллега, с которым она должна была поменяться местами, да так и не сделал этого, погиб — а вместе с ним еще восемь человек.
Начались послевоенные будни. На первый взгляд все шло хорошо: уже в 1944 году Станюта, вернувшись в театр, который тогда получил имя погибшего Янки Купалы, стала заслуженной артисткой БССР, в 1957-м — народной. В 1951 году в самом центре столицы, рядом с магазином ГУМ на проспекте, построили кирпичный дом № 19 со знаменитой «Лакомкой» на первом этаже, и актриса получила там квартиру, где прожила почти два десятка лет. Она продолжала играть и не мыслила себя без родной сцены.
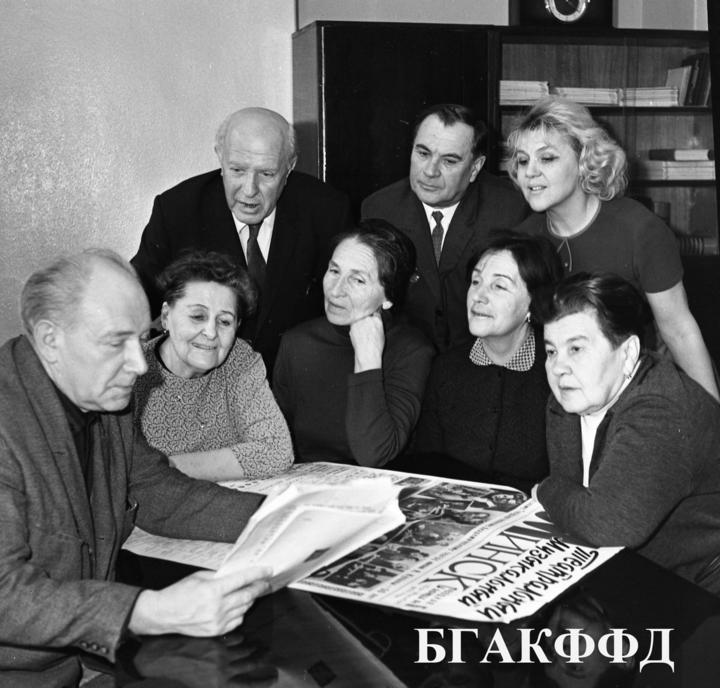
«Наша невялікая зала, вузкія лесвічкі за кулісамі, грымёры, краўчыхі, бутафоры, рабочыя сцэны, — увесь наш вялікі калектыў, публіка ў зале, шумок перад адкрыццём заслоны — ўсё гэта самае роднае. Люблю свой тэатр, сваю работу, людзей, з якімі працую шмат гадоў, сам працэс нараджэння вобраза. І найвышэйшая радасць — калі ўсё атрымліваецца так, як трэба… Чым складаней вобраз — тым прыемней поспех», — рассказывала она в 1965-м.
Однако на самом деле карьера Станюты развивалась вовсе не так, как ей бы хотелось. Потенциал актрисы позволял ей играть классические спектакли, дворянок и аристократок. Но ей предлагали в основном крестьянок, а звездами на сцене были другие. «Когда попала в Минск, обула на сцене кирзачи», — вспоминал ее сын. С 1940-х по 1950-е Стефании раз за разом не давали интересных ролей, в 1960−70-е оставляли на заднем плане или без ролей вовсе.
«Мама очень переживала, но потом говорила, что все равно чувствовала: „Мое от меня не уйдет“», — писал сын актрисы Александр.
Ей оставались второстепенные партии, небольшие эпизоды, которые, впрочем, она делала гениальными и запоминающимися, вспоминала Элеонора Езерская. Среди ее ролей — Глафира в «Волках и овцах» по Островскому, Марыля в «Разоренном гнезде» и Паланея в «Примаках» Купалы, Алена и пани Вашемирская в «Соловье» Змитрока Бядули, Кулина Чернушка в «Людях на болоте» по Мележу, Элиза в «Скупом» Мольера, Арина Родионовна в «Верочке» Макаёнка, роли в «Ромео и Джульетте», «Вишневом саде» и десятки других.
Приход в кино и всесоюзная слава
Дела пошли в гору, когда появилась альтернатива в виде кино, куда актрису стали приглашать сначала в эпизоды. В своем первом фильме Стефания Станюта снялась в 1958 году, когда ей было 53. «Неяк спакойна ставілася да гэтага. Думаю, галоўнае ўва мне і для мяне тэатр. А калі сталі запрашаць у кіно, спачатку нават і розніцу ў рабоце не асабліва адчувала. Праўда, штосьці крыху як бы заціскала ўнутры, калі я чула: „Матор!“ А потым было ўжо прасцей, ці мне так здаецца зараз, але гэтая заціснутасць заставалася. Не ведаю, запрашалі — я з задавальненнем, мне цікава было ўсё, роля поўная ці эпізод», — вспоминала актриса.

Многие из картин, где она снималась, были популярны в свое время: например, «Часы остановились в полночь», «Время выбрало нас». Музыкальная сказка «Про красную шапочку» (Станюта там сыграла Первую злую старуху) и сейчас остается советской детской классикой.
Но настоящий прорыв случился, когда в 1981-м вышел фильм «Прощание» по повести русского писателя Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Его начинала снимать режиссер Лариса Шепитько, но после ее трагической гибели завершал работу ее муж Элем Климов. Роль Дарьи — жительницы деревни Матеры, которая должна быть затоплена при строительстве ГЭС — сделала Станюту всесоюзной звездой.
«Узнавали ее повсюду: дети в зоопарке, грузины с арбузами на базаре, девушки-кассирши, солдаты цветы дарили. Это было что-то невероятное», — вспоминал сын. «Інакш стала адчуваць сябе: свабода з’явілася, смеласць. Як усё роўна адкрылася нешта ў тым, што быццам бы добра ведала і раней. Нічога не палохае, усё бачыш лепей, адчуваеш неяк больш аб’ёмна», — рассказывала сама актриса о тех съемках.
С тех пор и до середины 1990-х у нее выходило в год по нескольку фильмов — всего было около 60 киноролей («Люди на болоте», «Белые росы», «Торговка и поэт», «Изгой», «Силуэт в окне напротив» и другие). В 1988 году ей присвоили звание народной артистки СССР.
На равных с молодыми
При всей занятости в кино Станюта вовсе не отказалась от театра. Одним из ее поздних шедевров стала роль в спектакле режиссера Николая Пинигина «Гарольд и Мод» в дуэте с Виктором Манаевым. Эту роль она особенно любила. «Стефания там парила, она играла свою молодость. Эта пьеса буквально в то же время шла и во Франции. Там они играли очень раскованно: Гарольду — 18 лет, Мод — 80, у них возникает дружба-любовь на грани эротики. Публика остальное домысливала… Здесь бы это, конечно, не прошло. Но Коля Пинигин сделал все отлично: это счастье, что в таком возрасте мама имела возможность выходить на сцену», — рассказывал Александр Станюта. «В театральной среде этот спектакль много лет считался эталоном художественности», — отмечала критик Татьяна Орлова.

Несмотря на цифры в паспорте, Стефания никогда не унывала и не жаловалась. «Она была очень живой. …В 70 лет ездила на гастроли, и у нее спрашивали: "Неужели у вас ничего не болит, почему вы не жалуетесь?", она отвечала: "Болит, но, если я пожалуюсь, разве что-то изменится?"» — рассказывали о ней. «Она всю жизнь танцевала. И в 70 лет садилась на шпагат», — вспоминала ее правнучка Мелитина Станюта, известная беларусская гимнастка и медалистка чемпионатов мира и Европы. Злая Каргота, роль которой исполняла Станюта в спектакле «Тры Іваны — тры браты», дралась на равных с молодыми Иванами — на палках, с кувырками, кульбитами и переворотами. Тогда актрисе было восемьдесят с лишним лет.
Своего возраста она совершенно не стеснялась. «В конце 1980-х в ботаническом саду фотографировал Стефанию Станюту, которая вместе с театром имени Янки Купалы гастролировала в Витебске. Тогда она мне сказала: "Детка, сними меня так, чтобы была видна каждая морщинка"», — вспоминал фотограф Михаил Шмерлинг.
Поддержка беларусского языка и «улица» в столице
Даже став всесоюзной звездой, Станюта не забронзовела и не считала себя выше национальных проблем. В 1986-м она — вместе с писателями Василем Быковым, Пименом Панченко и Янком Брылем, художником Леонидом Щемелевым и другими — подписала письмо советскому генсеку Михаилу Горбачеву в поддержку беларусского языка, который страдал от политики русификации. А в первой половине девяностых поддерживала политику возрождения беларусской культуры.
Все эти годы она продолжала работать в театре. Ее огромный опыт вызывал восхищение коллег, а незнакомцы не могли поверить, что актриса видела еще царя. «Едзем неяк пасля спектакля, познім вечарам, у таксоўцы. Я, Мікалай Пінігін, <…>, яшчэ нехта. I раптам у мяне вырвалася: "Ой, я ж па гэтай вуліцы яшчэ на концы ездзіла!" А тут у нас, у машыне, цёпла і музыка, і нечыя галасы ў радыётэлефоне шафёра. I ён паглядзеў на мяне і гмыкнуў. Маўляў, ну і вясёлая ж бабулька, выдумляе так… Коля Пінігін змоўчаў — ён зразумеў шафёра. Надта доўга трэба было даводзіць. Казаць, колькі мне гадоў і ўсё такое», — вспоминала Стефания.

В начале девяностых Станюта так говорила сыну о своей длинной жизни, чувствуя приближение ее конца: «Гэта ўсё было як сон. Міраж… I галоўнае, як хутка прамчалася… Я заўсёды думала; о-о, гэта яшчэ доўга, доўга… А гэта ж-жых — і праляцела. Цэлае жыццё! Ну, усё роўна як сон, дальбог!»
Но и после этого актрисе было суждено прожить еще десятилетие. Последний раз она вышла на сцену в декабре 1997-го в спектакле «Страсти по Авдею» — ей тогда было 92.
Умерла Стефания Станюта 6 ноября 2000 года в возрасте 95 лет. Ее похоронили на Восточном кладбище рядом с Владимиром Короткевичем, Василем Быковым, Владимиром Мулявиным и Петром Машеровым.
За свою долгую жизнь Станюта стала легендой и символом беларусского театра и кино. Но отношение нынешних властей к великой актрисе видно на примере улицы, названной ее именем. Она находится в Минске в закрытом для посторонних коттеджном поселке на 14 домов возле Цнянского водохранилища. В 2020-м там появился памятник Сретену Каричу, одному из основателей Dana Holdings и представителю семьи сербских бизнесменов, которые застроили высотками несколько районов беларусской столицы, пользуясь особыми отношениями с Александром Лукашенко. Ни памятника Стефании Станюте, ни настоящей улицы в ее честь в Минске до сих пор нет.
Читайте также




